Всему своё время
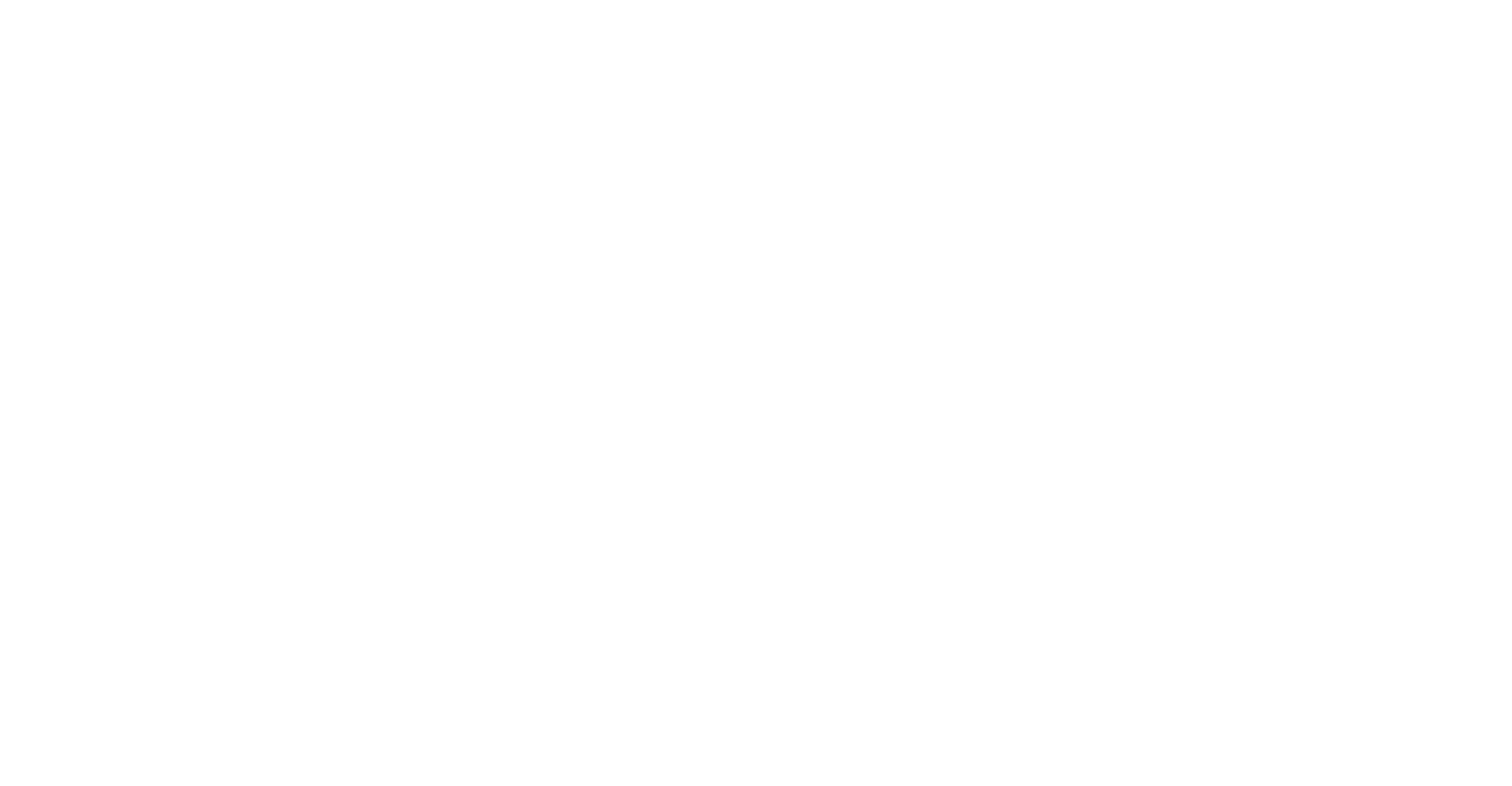
Шум на улице Цветочного рынка стал невыносимым, но при закрытом окне было бы душно. Осторожно отодвинув пыльную штору, уцепившуюся за гардину расплющенным металлическим кольцом, Патиш хмуро посмотрела вниз. Под окнами несколько господ в шляпах обсуждали что-то, перебивая друг друга и активно жестикулируя. Один из них держал в руках свёрнутую в плотный рулон бумагу, другой — странного вида инструмент, остальные стояли с портфелями и планшетами. Патиш узнала только одного из них — барона Османа. А узнав, — зло плюнула в открытое окно, выкрикнула ругательство и отошла к зеркалу. Оттуда на неё взглянуло недовольное лицо с тусклыми глазами под рвано постриженной чёлкой. Тяжело вздохнув, она стала затягивать корсет на груди шнуровкой.
Лишь недавно самопровозглашённый, император посадил на место городского префекта этого Османа, а тот спустя всего девять дней хватко взялся за дело. Наполеон III давно мечтал о превращении Парижа в Лондон, которым он так грезил, вероятно, считая столицу Франции вышедшим из моды платьем — ведь только платье можно было перекроить от ворота до пят, чтобы придать ему другой фасон. Это обижало и злило Патиш: с ней, древним городом, пережившим болезни, революции, войны и голод, обращались как с вещью. Впрочем, она была не вполне справедлива ни к императору, ни к барону: никто из них не знал, что у Парижа есть живое воплощение из плоти и крови.
Вдруг в зеркале вместо её лица отразилось похожее, но совсем другое, мужское. Он не был мрачен и улыбался, глядя на то, как Патиш собирается.
— Давай-ка я поговорю с ними. Скандал не заставит их изменить решение.
Патиш фыркнула.
— Ты-то что понимаешь в этом?
— Я же даю уроки дочерям Османа.
— И как ты объяснишь своё появление в этом квартале?
— Придумаю что-нибудь. Доверься мне.
Женщина, уперев руки в бока, глядела на своё необычное отражение с минуту, думая, как правильнее поступить, потом усмехнулась и начала снимать платье.
— Твоя взяла.
Переодевшись в мужской сюртук, рубашку с жилетом, брюки и сапоги, она снова встала перед зеркалом.
— Патрис? — позвала она. — À toi.
С Патиш произошла метаморфоза: теперь она оказалась в отражении, а в комнате стоял Патрис, расправляя сюртук. У двери он захватил шляпу, оглянулся к зеркалу и улыбнулся.
— До скорого!
Он вышел во внутренний двор, перемахнул через ветхую изгородь, перескочил, едва не оступившись, через дурнопахнущую канаву, и обогнул дом. Выйдя на узкую улицу, он потупил взгляд, будто углубился в собственные мысли, и приблизился к увлечённым беседой градостроителям. Барон Осман терпеливо слушал препирательства двух своих архитекторов: они обсуждали снос зданий на улице Цветочного рынка.
— Месье барон! — воскликнул Патрис. Архитекторы не обратили на него внимания и продолжали спорить, а Осман удивлённо повернул к нему голову.
— Месье де Лясен? Не ожидал вас здесь встретить.
— Заглядывал к коллегам в университете, иду домой.
— Опасный это квартал для такого человека, как вы, — заботливо сказал барон. Патрис знал, что тот высоко ценил его старания и не пожелал бы искать дочерям другого учителя. Он скромно принял заботу и застенчиво ответил:
— В этом доме живут сироты из округи, их всех приютила одна сердобольная мадам. То и дело, как выдаётся свободная минутка, я обучаю их грамоте и простому счёту...
— Благодарю вас за самоотверженность. А с этой мадам мы, кажется, имели честь познакомиться… Вы сейчас идёте к детям на урок?
Патрис растерялся: барон внимательно осматривал дом и подолгу глядел на окна, в которых показывались чумазые рожицы.
— Нет.
— Дело в том, что я бы хотел поговорить с женщиной, приютившей детей. Мы должны объяснить ей, почему её дом будет снесён.
Де Лясен нервно сглотнул.
— А… почему он будет снесён, позвольте поинтересоваться?..
Ответ барона был совершенно неожиданным.
— Париж, как столица современного и прогрессивного государства, устарел. Часто ли вы путешествуете, месье де Лясен?
— Разве что проведывал сестру пару раз. Она живёт в Руане.
— А где любите гулять?
— Маршрут от Латинского квартала до моего дома меня вполне устраивает.
— Часто ли вы ездите на извозчике?
— Редко, улицы так загружены… Проще дойти пешком.
— А чахоткой болеете?
— Прошу прощения, мой барон, но какое отношение это имеет к Парижу? — ласково усмехнулся Патрис, желая прервать допрос.
— О, друг мой, самое прямое. Я лишь хотел указать вам на несовершенство нынешних условий жизни. Наша столица заметно отстала от ближайших прогрессивных соседей по Европе, даже от англичан. Император желает преобразить город, и я полностью поддерживаю его в этом стремлении. Париж достоин быть красивым и привлекательным для жизни.
Де Лясен, опешив, осмысливал эти слова. Он никогда не задумывался о красоте своего города, он видел его, то есть самого себя — как Патриса или Патиш, — хранителем парижан, у которого, подобно ангелу, внешняя красота не имела значения, если не было красоты внутренней. Но вслух Патрис сказал другое, рискнув использовать аргумент, спорный с точки зрения Османа.
— Но ведь… преображая город, строя новые дома, можно случайно позабыть о самых уязвимых его жителях. Строительство всё же требует больших вложений, но людям эти деньги нужнее, чем городу. Почему бы не накормить хотя бы детей из этого дома?
Во взгляде Османа что-то мелькнуло, он сделал маленький шаг навстречу, но потом заморгал и отпрянул, тут же пояснив:
— Вы задаёте правильный вопрос, но у меня нет на него короткого и притом понятного ответа. Однако я не отказываюсь от диалога. Приходите в префектуру на следующей неделе. Я отвечу на все ваши вопросы. — На этом разговор был окончен, барон обратился к компаньонам: — У нас ещё много работы, давайте осмотрим следующий квартал.
Архитекторы направились дальше по улице Цветочного рынка, но Осман, задержавшись, вдруг снова повернулся к Патрису.
— Месье де Лясен, вы нравитесь моим девочкам, мне и Октавии вы крайне симпатичны. О вас я слышал только положительные рекомендации, вы известны, как мягкий и дипломатичный человек. Я прошу вас как друга: поговорите с мадам, убедите её прийти. К сожалению, бедные люди видят в этих метаморфозах только вред и бессердечное отношение к городской истории. Но это далеко не так.
Де Лясен молча кивнул и снова погрузился в собственные мысли. Даже когда барон заметил, что им по пути, Патрис соврал о забытом в университете шарфе и развернулся в другую сторону — лишь бы не сталкиваться до поры с Османом.
Лишь недавно самопровозглашённый, император посадил на место городского префекта этого Османа, а тот спустя всего девять дней хватко взялся за дело. Наполеон III давно мечтал о превращении Парижа в Лондон, которым он так грезил, вероятно, считая столицу Франции вышедшим из моды платьем — ведь только платье можно было перекроить от ворота до пят, чтобы придать ему другой фасон. Это обижало и злило Патиш: с ней, древним городом, пережившим болезни, революции, войны и голод, обращались как с вещью. Впрочем, она была не вполне справедлива ни к императору, ни к барону: никто из них не знал, что у Парижа есть живое воплощение из плоти и крови.
Вдруг в зеркале вместо её лица отразилось похожее, но совсем другое, мужское. Он не был мрачен и улыбался, глядя на то, как Патиш собирается.
— Давай-ка я поговорю с ними. Скандал не заставит их изменить решение.
Патиш фыркнула.
— Ты-то что понимаешь в этом?
— Я же даю уроки дочерям Османа.
— И как ты объяснишь своё появление в этом квартале?
— Придумаю что-нибудь. Доверься мне.
Женщина, уперев руки в бока, глядела на своё необычное отражение с минуту, думая, как правильнее поступить, потом усмехнулась и начала снимать платье.
— Твоя взяла.
Переодевшись в мужской сюртук, рубашку с жилетом, брюки и сапоги, она снова встала перед зеркалом.
— Патрис? — позвала она. — À toi.
С Патиш произошла метаморфоза: теперь она оказалась в отражении, а в комнате стоял Патрис, расправляя сюртук. У двери он захватил шляпу, оглянулся к зеркалу и улыбнулся.
— До скорого!
Он вышел во внутренний двор, перемахнул через ветхую изгородь, перескочил, едва не оступившись, через дурнопахнущую канаву, и обогнул дом. Выйдя на узкую улицу, он потупил взгляд, будто углубился в собственные мысли, и приблизился к увлечённым беседой градостроителям. Барон Осман терпеливо слушал препирательства двух своих архитекторов: они обсуждали снос зданий на улице Цветочного рынка.
— Месье барон! — воскликнул Патрис. Архитекторы не обратили на него внимания и продолжали спорить, а Осман удивлённо повернул к нему голову.
— Месье де Лясен? Не ожидал вас здесь встретить.
— Заглядывал к коллегам в университете, иду домой.
— Опасный это квартал для такого человека, как вы, — заботливо сказал барон. Патрис знал, что тот высоко ценил его старания и не пожелал бы искать дочерям другого учителя. Он скромно принял заботу и застенчиво ответил:
— В этом доме живут сироты из округи, их всех приютила одна сердобольная мадам. То и дело, как выдаётся свободная минутка, я обучаю их грамоте и простому счёту...
— Благодарю вас за самоотверженность. А с этой мадам мы, кажется, имели честь познакомиться… Вы сейчас идёте к детям на урок?
Патрис растерялся: барон внимательно осматривал дом и подолгу глядел на окна, в которых показывались чумазые рожицы.
— Нет.
— Дело в том, что я бы хотел поговорить с женщиной, приютившей детей. Мы должны объяснить ей, почему её дом будет снесён.
Де Лясен нервно сглотнул.
— А… почему он будет снесён, позвольте поинтересоваться?..
Ответ барона был совершенно неожиданным.
— Париж, как столица современного и прогрессивного государства, устарел. Часто ли вы путешествуете, месье де Лясен?
— Разве что проведывал сестру пару раз. Она живёт в Руане.
— А где любите гулять?
— Маршрут от Латинского квартала до моего дома меня вполне устраивает.
— Часто ли вы ездите на извозчике?
— Редко, улицы так загружены… Проще дойти пешком.
— А чахоткой болеете?
— Прошу прощения, мой барон, но какое отношение это имеет к Парижу? — ласково усмехнулся Патрис, желая прервать допрос.
— О, друг мой, самое прямое. Я лишь хотел указать вам на несовершенство нынешних условий жизни. Наша столица заметно отстала от ближайших прогрессивных соседей по Европе, даже от англичан. Император желает преобразить город, и я полностью поддерживаю его в этом стремлении. Париж достоин быть красивым и привлекательным для жизни.
Де Лясен, опешив, осмысливал эти слова. Он никогда не задумывался о красоте своего города, он видел его, то есть самого себя — как Патриса или Патиш, — хранителем парижан, у которого, подобно ангелу, внешняя красота не имела значения, если не было красоты внутренней. Но вслух Патрис сказал другое, рискнув использовать аргумент, спорный с точки зрения Османа.
— Но ведь… преображая город, строя новые дома, можно случайно позабыть о самых уязвимых его жителях. Строительство всё же требует больших вложений, но людям эти деньги нужнее, чем городу. Почему бы не накормить хотя бы детей из этого дома?
Во взгляде Османа что-то мелькнуло, он сделал маленький шаг навстречу, но потом заморгал и отпрянул, тут же пояснив:
— Вы задаёте правильный вопрос, но у меня нет на него короткого и притом понятного ответа. Однако я не отказываюсь от диалога. Приходите в префектуру на следующей неделе. Я отвечу на все ваши вопросы. — На этом разговор был окончен, барон обратился к компаньонам: — У нас ещё много работы, давайте осмотрим следующий квартал.
Архитекторы направились дальше по улице Цветочного рынка, но Осман, задержавшись, вдруг снова повернулся к Патрису.
— Месье де Лясен, вы нравитесь моим девочкам, мне и Октавии вы крайне симпатичны. О вас я слышал только положительные рекомендации, вы известны, как мягкий и дипломатичный человек. Я прошу вас как друга: поговорите с мадам, убедите её прийти. К сожалению, бедные люди видят в этих метаморфозах только вред и бессердечное отношение к городской истории. Но это далеко не так.
Де Лясен молча кивнул и снова погрузился в собственные мысли. Даже когда барон заметил, что им по пути, Патрис соврал о забытом в университете шарфе и развернулся в другую сторону — лишь бы не сталкиваться до поры с Османом.
~
Де Лясен не пошёл в префектуру. Этому непростому решению предшествовала чрезвычайно бурная беседа с зеркалом; так уж они с Патиш привыкли разговаривать. Хотя Патрис и Патрисия являлись частями целого сознания и продолжением друг друга, их взгляды нередко сталкивались, и они часами, а порой и целыми днями не могли прийти к согласию.
Впрочем, капитальная перестройка, затеянная Османом, вызывала ожесточённые споры во всём Париже. Не мешала им и жёсткая длань императора Наполеона III, позаботившегося о цензуре в газетах. Бедняки, выдворенные из старинных домов в центре столицы, негодовали, заселив окраины на гроши, которые выдала им префектура. Недоумевали держатели лавок и магазинов: власти и от них откупились деньгами, кое-как компенсировав ущерб за снос зданий. Банкиры, промышленники и подрядчики потирали руки, терпеливо предвкушая прибыль от свеженьких домов.
Все эти мнения сходились в одном: Париж преображался. Сложно было пока сказать, на пользу ли шли перемены городу, потому что вот уже семь лет продолжалась стройка, грозившая стать бесконечной. Едва сломают здания на одной улице, на ней тут же вырастают леса, а каменщики ввинчиваются в мостовую; тем временем уже в соседнем переулке слышен грохот падающих стен. Кирпичная пыль иссушила воздух, а её запах дополнил ужасающе привычный смрад старого Парижа. Горожане бродили по разрухе, им порой было сложно понять: это ломают или строят?
«Как ты не понимаешь! — возмущалась Патиш. — Вся эта переделка — всего лишь модная прихоть. Чего ещё они захотят через несколько лет? Мир не стоит на месте! А скольких людей они отшвырнут к городским стенам? Центр заселят зажиточные снобы и богачи, а их слуги будут стаптывать ноги, добираясь на службу».
«И те, и другие — парижане, — кротко возражал Патрис, её альтер-эго. — Все они достойны жить в лучшем городе, в здоровом городе».
«А чтобы вылечить город, они проводят операцию на бьющемся сердце. Ты видел, во что они превратили Риволи ради проклятой выставки! И кругом этот безликий, бледный известняк...»
Было ли это как-либо связано с новой облицовкой зданий или нет, но, до недавней поры тёмно-русые, оба де Лясена как будто медленно выгорали на солнце, становясь белокурыми. Любившего всё новое Патриса это интриговало, привыкшую к постоянству Патиш — раздражало.
«Что, если поговорить с бароном? Рассказать ему, кто мы такие? Иначе он сам догадается через несколько лет. Он ведь человек неглупый».
«Нет уж, брось! Хватило с меня и первого Наполеона. Власть предержащим не нужно знать наших секретов. Лучше подумай о простых людях. Мы хранители города и горожан, им без нас не обойтись. Ну а барон… Он даже и не барон! Сам себе придумал титул, который ничего не стоит», — усмехалась Патрисия.
Впрочем, капитальная перестройка, затеянная Османом, вызывала ожесточённые споры во всём Париже. Не мешала им и жёсткая длань императора Наполеона III, позаботившегося о цензуре в газетах. Бедняки, выдворенные из старинных домов в центре столицы, негодовали, заселив окраины на гроши, которые выдала им префектура. Недоумевали держатели лавок и магазинов: власти и от них откупились деньгами, кое-как компенсировав ущерб за снос зданий. Банкиры, промышленники и подрядчики потирали руки, терпеливо предвкушая прибыль от свеженьких домов.
Все эти мнения сходились в одном: Париж преображался. Сложно было пока сказать, на пользу ли шли перемены городу, потому что вот уже семь лет продолжалась стройка, грозившая стать бесконечной. Едва сломают здания на одной улице, на ней тут же вырастают леса, а каменщики ввинчиваются в мостовую; тем временем уже в соседнем переулке слышен грохот падающих стен. Кирпичная пыль иссушила воздух, а её запах дополнил ужасающе привычный смрад старого Парижа. Горожане бродили по разрухе, им порой было сложно понять: это ломают или строят?
«Как ты не понимаешь! — возмущалась Патиш. — Вся эта переделка — всего лишь модная прихоть. Чего ещё они захотят через несколько лет? Мир не стоит на месте! А скольких людей они отшвырнут к городским стенам? Центр заселят зажиточные снобы и богачи, а их слуги будут стаптывать ноги, добираясь на службу».
«И те, и другие — парижане, — кротко возражал Патрис, её альтер-эго. — Все они достойны жить в лучшем городе, в здоровом городе».
«А чтобы вылечить город, они проводят операцию на бьющемся сердце. Ты видел, во что они превратили Риволи ради проклятой выставки! И кругом этот безликий, бледный известняк...»
Было ли это как-либо связано с новой облицовкой зданий или нет, но, до недавней поры тёмно-русые, оба де Лясена как будто медленно выгорали на солнце, становясь белокурыми. Любившего всё новое Патриса это интриговало, привыкшую к постоянству Патиш — раздражало.
«Что, если поговорить с бароном? Рассказать ему, кто мы такие? Иначе он сам догадается через несколько лет. Он ведь человек неглупый».
«Нет уж, брось! Хватило с меня и первого Наполеона. Власть предержащим не нужно знать наших секретов. Лучше подумай о простых людях. Мы хранители города и горожан, им без нас не обойтись. Ну а барон… Он даже и не барон! Сам себе придумал титул, который ничего не стоит», — усмехалась Патрисия.
~
Однако же ещё через год снесли старый дом на улице Цветочного рынка, детей развезли по приютам за чертой Парижа. Не стало и самой улицы, и никакое заступничество волшебных хранителей не смогло противостоять напролом шагающей через Ситэ воле людей. Тогда Патрисия не выдержала и, нацепив самое приличное своё платье, со всклокоченными волосами отправилась в префектуру. Османа не было, ей пришлось прождать в приёмной почти два часа, и это ожидание заметно остудило её ярость, дав место рассудительности против горячего бунтарства.
Наконец её пригласили в кабинет. Барон стоял у окна, изучая громадную карту Парижа на стене, и отвлёкся, как только его помощник прикрыл за Патиш дверь. Окинув комнату взглядом, приметив бюст тихо ненавидимого ею императора, она сделала пару шагов и остановилась.
— Чем обязан, мадам?
— Вы снесли приют и лишили сирот единственной радости — любимого опекуна. А меня оставили без работы.
— Как ваше имя?
Патиш предвосхищала этот вопрос, а потому с готовностью ответила:
— Селин Дюбуа.
— Полагаю, мадам Дюбуа, мой друг де Лясен всё же передал вам моё приглашение.
«Я тебе не друг!» — мрачно подумала Патиш.
— Я ждал вас несколько месяцев назад, — продолжал Осман, погладив торчавшую полукружием бороду. — Но смею заверить, дети распределены по лучшим приютам.
— В этой стране нет хороших приютов, — бросила она.
— И потому вы нелегально организовали свой в стенах заброшенного дома, давно требовавшего сноса. Самоотверженно и смело. Я благодарю вас за такой поступок.
Она не нашлась с ответом. Не принимать же похвалу от этого нахального сноба!
— Я рассчитывал поговорить с вами, выслушать вашу критику.
— А вы бы прислушались? — пылко спросила Патрисия, в душе у которой вдруг зародилась робкая, осторожная надежда. — Вы бы отказались от сноса моего приюта? От разрушения старого, милого Ситэ?
Барон молчал ровно столько, сколько нужно, чтобы остыло и развеялось её чаяние. Он прошёл к широкому столу тёмного дерева, опустился в кресло и пригласил визитёршу присесть, но та осталась стоять посреди кабинета.
— Не сомневаюсь, что для вас эпитет «милый» применим к старому Ситэ. Вы в этом отнюдь не одиноки. Давайте и я поделюсь своими наблюдениями. Я родился и жил на правом берегу, и там же посещал лицей. Но когда я поступил на факультет права, мне, молодому студенту, пришлось пересекать Сену и делать это, минуя Ситэ… Надо ли говорить, что неблагополучный квартал, полный бродяг и воришек, да ещё и в самом центре, в исторической колыбели города, — это настоящий позор для Парижа?
— Люди выживают как могут, потому что до них никому нет дела, кроме них самих!
— Но детей из вашего приюта постигла бы та же участь, — повысил голос Осман. — Можно сколь угодно уповать на парус и вёсла, но если не устранить течь в корпусе, лодка далеко не уплывёт. Ни вашему поколению, ни тем более моему уже не помочь. Но наши дети будут жить в лучшем городе, в столице Европы — или, если хотите, в столице мира. Где образование и жильё доступны всем, где каждому найдётся работа и занятие по душе.
— Скажите это в лицо сиротам, которых вы заставили покинуть дом! Скажите им: вам не помочь, ведь сперва от вас отказались родители, а затем и родина. Скажите: мы сравняли ваш дом с землёй, лишь бы вы не бедовали, как ваши соседи по улице. Объясните-ка детям этот акт заботы!
Потом Патиш уже не смогла остановиться. Чувства всё-таки взяли верх, и она несколько раз упрекнула барона в транжирстве и его готовности идти на всё ради пустозвонного новшества, обозвала его разрушителем и варваром, уничтожающим всё на своём пути, без оглядки на исторические ценности и традиции. Она назвала его чужестранцем, и в её устах — в устах самого Парижа — это прозвучало страшно, словно она отказывалась признавать Османа своим дитя и, лишив всякого благословения, оставила его на волю Господа и судьбы, как юная мать, отстранившая от груди ребёнка.
Но Осман не знал, кто перед ним. Он видел помешавшуюся невоспитанную женщину, позабывшую о своём месте. И хотя позднее он укорил за несдержанность себя, в тот момент подумал, что это она заразила его неистовостью и гневом. Как знать, может, не так уж он и ошибался.
— Париж — прекрасный город, но в сердце его грязь и гниль. Смрад его дыхания чувствуется далеко за городскими стенами. Сироты, о которых вы так печётесь, пополнят ряды попрошаек, или ещё хуже — воров и убийц. Конечно, если раньше того их не прикончит холера или чахотка. А на смену им придут другие сироты. Если вам плевать на родной город, подумайте о детях будущего. А если вам всё едино, ступайте с миром и не мешайте работе неравнодушных людей!
С этими словами Патиш выпроводили из кабинета и префектуры.
Наконец её пригласили в кабинет. Барон стоял у окна, изучая громадную карту Парижа на стене, и отвлёкся, как только его помощник прикрыл за Патиш дверь. Окинув комнату взглядом, приметив бюст тихо ненавидимого ею императора, она сделала пару шагов и остановилась.
— Чем обязан, мадам?
— Вы снесли приют и лишили сирот единственной радости — любимого опекуна. А меня оставили без работы.
— Как ваше имя?
Патиш предвосхищала этот вопрос, а потому с готовностью ответила:
— Селин Дюбуа.
— Полагаю, мадам Дюбуа, мой друг де Лясен всё же передал вам моё приглашение.
«Я тебе не друг!» — мрачно подумала Патиш.
— Я ждал вас несколько месяцев назад, — продолжал Осман, погладив торчавшую полукружием бороду. — Но смею заверить, дети распределены по лучшим приютам.
— В этой стране нет хороших приютов, — бросила она.
— И потому вы нелегально организовали свой в стенах заброшенного дома, давно требовавшего сноса. Самоотверженно и смело. Я благодарю вас за такой поступок.
Она не нашлась с ответом. Не принимать же похвалу от этого нахального сноба!
— Я рассчитывал поговорить с вами, выслушать вашу критику.
— А вы бы прислушались? — пылко спросила Патрисия, в душе у которой вдруг зародилась робкая, осторожная надежда. — Вы бы отказались от сноса моего приюта? От разрушения старого, милого Ситэ?
Барон молчал ровно столько, сколько нужно, чтобы остыло и развеялось её чаяние. Он прошёл к широкому столу тёмного дерева, опустился в кресло и пригласил визитёршу присесть, но та осталась стоять посреди кабинета.
— Не сомневаюсь, что для вас эпитет «милый» применим к старому Ситэ. Вы в этом отнюдь не одиноки. Давайте и я поделюсь своими наблюдениями. Я родился и жил на правом берегу, и там же посещал лицей. Но когда я поступил на факультет права, мне, молодому студенту, пришлось пересекать Сену и делать это, минуя Ситэ… Надо ли говорить, что неблагополучный квартал, полный бродяг и воришек, да ещё и в самом центре, в исторической колыбели города, — это настоящий позор для Парижа?
— Люди выживают как могут, потому что до них никому нет дела, кроме них самих!
— Но детей из вашего приюта постигла бы та же участь, — повысил голос Осман. — Можно сколь угодно уповать на парус и вёсла, но если не устранить течь в корпусе, лодка далеко не уплывёт. Ни вашему поколению, ни тем более моему уже не помочь. Но наши дети будут жить в лучшем городе, в столице Европы — или, если хотите, в столице мира. Где образование и жильё доступны всем, где каждому найдётся работа и занятие по душе.
— Скажите это в лицо сиротам, которых вы заставили покинуть дом! Скажите им: вам не помочь, ведь сперва от вас отказались родители, а затем и родина. Скажите: мы сравняли ваш дом с землёй, лишь бы вы не бедовали, как ваши соседи по улице. Объясните-ка детям этот акт заботы!
Потом Патиш уже не смогла остановиться. Чувства всё-таки взяли верх, и она несколько раз упрекнула барона в транжирстве и его готовности идти на всё ради пустозвонного новшества, обозвала его разрушителем и варваром, уничтожающим всё на своём пути, без оглядки на исторические ценности и традиции. Она назвала его чужестранцем, и в её устах — в устах самого Парижа — это прозвучало страшно, словно она отказывалась признавать Османа своим дитя и, лишив всякого благословения, оставила его на волю Господа и судьбы, как юная мать, отстранившая от груди ребёнка.
Но Осман не знал, кто перед ним. Он видел помешавшуюся невоспитанную женщину, позабывшую о своём месте. И хотя позднее он укорил за несдержанность себя, в тот момент подумал, что это она заразила его неистовостью и гневом. Как знать, может, не так уж он и ошибался.
— Париж — прекрасный город, но в сердце его грязь и гниль. Смрад его дыхания чувствуется далеко за городскими стенами. Сироты, о которых вы так печётесь, пополнят ряды попрошаек, или ещё хуже — воров и убийц. Конечно, если раньше того их не прикончит холера или чахотка. А на смену им придут другие сироты. Если вам плевать на родной город, подумайте о детях будущего. А если вам всё едино, ступайте с миром и не мешайте работе неравнодушных людей!
С этими словами Патиш выпроводили из кабинета и префектуры.
~
Дочери барона Османа выросли и вышли замуж. Младшая успела стать любовницей императора и, дабы скрыть отцовство, была выдана за начальника канцелярии префектуры, виконта Пернети. Барон и император, до того бывшие родственными душами, объединёнными идеями о будущем города, в самом прямом смысле стали родственниками. Впрочем, не составило труда эту связь хорошенько скрыть.
Жалованья Патриса уже не хватало на аренду жилья. Он переехал на окраину города, но и переезд, и нескончаемая стройка мешали ему ходить на дом к ученикам. Их с Патиш небольшие накопления заканчивались, они вот-вот влезли бы в оставленные на самый чёрный день векселя. В комнатке старого дома, где они поселились, было сыро и холодно, и чахотка, разжавшая было тиски, по-прежнему хозяйничала здесь.
Тем сильнее бросались в глаза перемены. Всё новые улицы расчерчивали город словно по линейке, дома — большие, светлые, светящиеся — вставали по обеим сторонам широких бульваров. Парижане привыкли к неудобствам и даже находили в себе силы удивляться новому облику столицы, хотя сметливые жители понимали, как недёшево строительство. Попадались и находчивые аферисты. Торговцам, как и жильцам сносимых домов, всё ещё выплачивали компенсации, так что некоторые люди, подделывая бумаги, по несколько раз наведывались за деньгами в префектуру. Впрочем, эту инициативу довольно скоро пресекли строгие суды.
Обналичив векселя, Патрис смог снять комнату на предпоследнем этаже нового дома, а на оставшиеся деньги купить выходное платье для Патиш и приличный костюм для себя. Патиш это решение посчитала непрактичным. «Так и так я переодевалась мужчиной до того, как ты появился, и никто меня не узнавал. Женское дорогое и неудобное. Я его не надену». Но она, конечно, понимала, что давно прошли те времена, когда можно было укрыться в доспехах или изображать из себя тонкого юношу с неокрепшим голосом, потому что рядом всегда был кто-нибудь, кто знал её секрет и помогал его хранить. Ныне не было доверенных лиц, да и нужны ли они, если в зеркале напротив неё Патрис? Появившийся как удобство, как живая маска, он стал для неё вечным спутником, другом, братом-близнецом. Кому довериться, как не самому себе? И она перестала выходить из дома, позволив Патрису испытывать всю полноту мира в одиночку. К тому же при переезде потерялось их большое зеркало в резной раме; в новой квартирке оно бы всё равно не поместилось.
Дом, в котором они поселились, щедро демонстрировал расслоение общества. В богато украшенных комнатах на втором этаже расположились аристократы, молодой светский лев с женой. Над ними жили зажиточные буржуа — владельцы магазина в этом же здании, ещё выше них — многодетное семейство буржуа попроще. Соседями де Лясена по этажу стали журналист и русский путешественник, а над ними, под самой крышей, обитали бедный художник, студент из Руана и прислуга аристократов. Обеспеченные жильцы пользовались парадной лестницей, прочие, и Патрис в их числе, — чёрной.
Публика оказалась довольно приличной, новосёлы, воодушевлённые необыкновенной жизнью под одной крышей, были внимательны друг к другу, хотя и не лезли в чужое дело. Де Лясены, как всякая душа города, воспрянули и ободрились в окружении человеческой заботы. Даже Патиш отложила до поры категорическое осуждение всего османовского и с неподдельным восторгом наблюдала за людьми, снова чувствуя единение с ними. Впрочем, о ней никто не знал, хотя подозревали, что учитель де Лясен обзавёлся невестой — кто-то слышал, как он якобы разговаривал во сне. На самом деле он, конечно же, разговаривал сам с собой.
Эта жилищная идиллия продлилась недолго: спустя всего несколько месяцев съехали одни соседи и появились другие. Патрис тоже однажды покинул этот дом, не дождавшись, пока его улица получит название.
Жалованья Патриса уже не хватало на аренду жилья. Он переехал на окраину города, но и переезд, и нескончаемая стройка мешали ему ходить на дом к ученикам. Их с Патиш небольшие накопления заканчивались, они вот-вот влезли бы в оставленные на самый чёрный день векселя. В комнатке старого дома, где они поселились, было сыро и холодно, и чахотка, разжавшая было тиски, по-прежнему хозяйничала здесь.
Тем сильнее бросались в глаза перемены. Всё новые улицы расчерчивали город словно по линейке, дома — большие, светлые, светящиеся — вставали по обеим сторонам широких бульваров. Парижане привыкли к неудобствам и даже находили в себе силы удивляться новому облику столицы, хотя сметливые жители понимали, как недёшево строительство. Попадались и находчивые аферисты. Торговцам, как и жильцам сносимых домов, всё ещё выплачивали компенсации, так что некоторые люди, подделывая бумаги, по несколько раз наведывались за деньгами в префектуру. Впрочем, эту инициативу довольно скоро пресекли строгие суды.
Обналичив векселя, Патрис смог снять комнату на предпоследнем этаже нового дома, а на оставшиеся деньги купить выходное платье для Патиш и приличный костюм для себя. Патиш это решение посчитала непрактичным. «Так и так я переодевалась мужчиной до того, как ты появился, и никто меня не узнавал. Женское дорогое и неудобное. Я его не надену». Но она, конечно, понимала, что давно прошли те времена, когда можно было укрыться в доспехах или изображать из себя тонкого юношу с неокрепшим голосом, потому что рядом всегда был кто-нибудь, кто знал её секрет и помогал его хранить. Ныне не было доверенных лиц, да и нужны ли они, если в зеркале напротив неё Патрис? Появившийся как удобство, как живая маска, он стал для неё вечным спутником, другом, братом-близнецом. Кому довериться, как не самому себе? И она перестала выходить из дома, позволив Патрису испытывать всю полноту мира в одиночку. К тому же при переезде потерялось их большое зеркало в резной раме; в новой квартирке оно бы всё равно не поместилось.
Дом, в котором они поселились, щедро демонстрировал расслоение общества. В богато украшенных комнатах на втором этаже расположились аристократы, молодой светский лев с женой. Над ними жили зажиточные буржуа — владельцы магазина в этом же здании, ещё выше них — многодетное семейство буржуа попроще. Соседями де Лясена по этажу стали журналист и русский путешественник, а над ними, под самой крышей, обитали бедный художник, студент из Руана и прислуга аристократов. Обеспеченные жильцы пользовались парадной лестницей, прочие, и Патрис в их числе, — чёрной.
Публика оказалась довольно приличной, новосёлы, воодушевлённые необыкновенной жизнью под одной крышей, были внимательны друг к другу, хотя и не лезли в чужое дело. Де Лясены, как всякая душа города, воспрянули и ободрились в окружении человеческой заботы. Даже Патиш отложила до поры категорическое осуждение всего османовского и с неподдельным восторгом наблюдала за людьми, снова чувствуя единение с ними. Впрочем, о ней никто не знал, хотя подозревали, что учитель де Лясен обзавёлся невестой — кто-то слышал, как он якобы разговаривал во сне. На самом деле он, конечно же, разговаривал сам с собой.
Эта жилищная идиллия продлилась недолго: спустя всего несколько месяцев съехали одни соседи и появились другие. Патрис тоже однажды покинул этот дом, не дождавшись, пока его улица получит название.
~
Минули годы, грянула Коммуна; лишившись поддержки императора, покинул свой пост барон Осман. Однако же дело его продолжилось: в Монсури соорудили огромное водохранилище, Париж оброс канализацией и новой сетью улиц. Город стал чистым и светлым, сияя даже в сумерках и под свинцовыми зимними тучами.
Патрис сменил работу — нестареющий учитель начинал вызывать у мнительных людей лишние подозрения, — и теперь писал заметки для газеты; время от времени его отправляли за репортажем на место событий или встречу с известным лицом. Талант поладить со сколь угодно капризным человеком и знание нескольких языков высоко ценились в редакции, так что частенько ему доставались самые несговорчивые собеседники или иностранцы.
Однажды на столе он обнаружил конверт со своим именем. Ему частенько подкладывали такие конверты, когда речь шла о новом задании. Но внутри обнаружился листок с адресом без объяснений и помет. Заинтригованный всей этой таинственностью, Патрис отправился сразу же. «Только бы не оказалось западнёй или дурной шуткой», — подумал он, выходя из редакции под мелко накрапывавший дождь.
Конечно же, его ждали. Служанка встретила его у двери и, не спросив ни имени, ни цели визита, проводила в маленькую гостиную. В комнате доминировал массивный стол, его окружили высокие книжные шкафы, но меж их внушительной строгостью уместились кофейный столик и кресла, так и кричавшие о праздности.
Кто-то сидел в кресле-качалке лицом к окну. Патрис не заметил человека, пока тот не сделал знак сесть. Однако репортёр с этим не торопился; отчего-то ему было не по себе.
— Кто вы? — спросил он, влекомый неясным порывом.
Человек медленно поднялся из кресла. Он оказался стариком с умными поблёкшими глазами и широкой челюстью.
— Здравствуйте, месье де Лясен, — произнёс старик и кротко улыбнулся.
Им оказался не кто иной, как Жорж Эжен Осман. Время одновременно иссушило и неузнаваемо украсило барона, его лицо стало худым и скуластым, серебро щедро блеснуло в тонких редких волосах, и он больше не носил свою знаменитую бороду.
Словно громом поражённый, Патрис разглядывал бывшего градоначальника, не в силах вымолвить ни слова. С десяток мыслей носилось в голове, паника начинала душить своими липкими лапами. О нет, ему придётся оправдываться перед этим человеком, делиться секретом, который они с Патиш решили сохранить в тайне от Османа!..
Но барон лишь снова пригласил гостя сесть, и на этот раз де Лясен подчинился. Не зная, как унять непонятную дрожь, он мял в руках записную книжку. Тем временем барон позвонил в колокольчик и попросил подать чаю.
— Как и любой человек в моём возрасте, месье де Лясен, я склонен раскаиваться и сожалеть. Нет-нет, не о многолетней перестройке города, ни в коем случае. Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что те условия и полная поддержка императора заставляли меня быть бессердечным, отстраняться от проблем людей, о которых я должен был позаботиться в первую очередь. Вот за бессердечие я бы хотел попросить прощения.
— У меня? — робко уточнил Патрис, когда повисла пауза.
— У мадам Дюбуа. Ваше имя нашлось в городском реестре, а её нет, так что я не смог связаться с ней…
— Дюбуа? О ком вы?
— Вы разве не помните ту женщину, что держала сиротский приют на старом Ситэ?
Ах, точно! Патиш придумала им этот псевдоним на случай, если бы Патрис слишком примелькался среди людей.
— Наши пути давно разошлись, мой барон. — Глаза старика тревожно блеснули, он весь сжался. Тогда де Лясен осторожно добавил: — Я… лишь изредка её встречаю.
Это заметно ободрило Османа. Из кармана жилета он достал небольшой новенький ключ и протянул Патрису вместе с карточкой, на которой был указан адрес.
— Что это?
— Компенсация за всё то, через что прошли сироты мадам Дюбуа и сотни других людей. Мне бы хотелось отплатить иначе, но я-то всего лишь человек, скопивший кое-какое состояние. А мадам Дюбуа, думаю, знает, как этим распорядиться.
Де Лясен потерянно смотрел на ключ в ладони. Не так-то просто будет передать его «мадам Дюбуа». Да и вряд ли Патиш согласится получить подачку от Османа спустя столько лет… Барон в один момент отвлёк его от скомканных размышлений.
— Вы ни на день не постарели за эти двадцать лет.
Чёрт! Он не мог не заметить. Нужно было срочно уйти. Извиниться, не отвечать ни на какие вопросы, не оглядываться. Но Патриса словно пригвоздило к месту.
— Честно говоря, вы всегда казались мне необычным. А увидев мадам Дюбуа, я уверился в своей правоте. У вас один и тот же взгляд, одна и та же, так сказать, атмосфера присутствия. Вы даже прихрамывали одинаково… — Старый барон добродушно улыбался, словно только что узнал о потерянном в детстве сыне. — Но хромота прошла, вы выглядите здоровым, посвежевшим. Вы стали блондином, месье де Лясен, вам идёт… Вы же как-то связаны с этим городом, правда? Но я не знаю как. Кто вы? Кто такая мадам Дюбуа?
Патрис невольно сжал в руке ключ и наконец-то встал из кресла. «Нет, он не догадался. И не должен знать».
— Простите, мой барон, я должен идти.
Осман не воспротивился, он словно ожидал ровно этой фразы.
— Ну конечно, я понимаю. Простите, но можно я отниму ещё минутку времени у вас? Загляните по пути в префектуру. Там, наверное, накопилось ваше жалованье.
— Я никогда… не работал в префектуре, месье.
— Да, я помню. Я взял на себя смелость учредить для вас особую пожизненную должность.
— М-м, спасибо, я очень вам признателен, барон. Мне правда пора.
Патрис отступил к двери, чувствуя себя одновременно трусом и лицемером. Он старался не встречаться с бароном глазами.
— Если встретите мадам Дюбуа и если она способна простить меня, я буду рад увидеть её.
— Да, я передам.
— Прощайте, мой друг.
«Прощайте» выбило де Лясена из колеи. Он вгляделся в лицо Османа, исчерченное морщинами, само по себе похожее на карту города с застывшими линиями улиц, в уставшие тёмные глаза. Кивнув и поджав губы, Патрис покинул кабинет.
Он не вернулся в редакцию и не пошёл домой.
Патрис сменил работу — нестареющий учитель начинал вызывать у мнительных людей лишние подозрения, — и теперь писал заметки для газеты; время от времени его отправляли за репортажем на место событий или встречу с известным лицом. Талант поладить со сколь угодно капризным человеком и знание нескольких языков высоко ценились в редакции, так что частенько ему доставались самые несговорчивые собеседники или иностранцы.
Однажды на столе он обнаружил конверт со своим именем. Ему частенько подкладывали такие конверты, когда речь шла о новом задании. Но внутри обнаружился листок с адресом без объяснений и помет. Заинтригованный всей этой таинственностью, Патрис отправился сразу же. «Только бы не оказалось западнёй или дурной шуткой», — подумал он, выходя из редакции под мелко накрапывавший дождь.
Конечно же, его ждали. Служанка встретила его у двери и, не спросив ни имени, ни цели визита, проводила в маленькую гостиную. В комнате доминировал массивный стол, его окружили высокие книжные шкафы, но меж их внушительной строгостью уместились кофейный столик и кресла, так и кричавшие о праздности.
Кто-то сидел в кресле-качалке лицом к окну. Патрис не заметил человека, пока тот не сделал знак сесть. Однако репортёр с этим не торопился; отчего-то ему было не по себе.
— Кто вы? — спросил он, влекомый неясным порывом.
Человек медленно поднялся из кресла. Он оказался стариком с умными поблёкшими глазами и широкой челюстью.
— Здравствуйте, месье де Лясен, — произнёс старик и кротко улыбнулся.
Им оказался не кто иной, как Жорж Эжен Осман. Время одновременно иссушило и неузнаваемо украсило барона, его лицо стало худым и скуластым, серебро щедро блеснуло в тонких редких волосах, и он больше не носил свою знаменитую бороду.
Словно громом поражённый, Патрис разглядывал бывшего градоначальника, не в силах вымолвить ни слова. С десяток мыслей носилось в голове, паника начинала душить своими липкими лапами. О нет, ему придётся оправдываться перед этим человеком, делиться секретом, который они с Патиш решили сохранить в тайне от Османа!..
Но барон лишь снова пригласил гостя сесть, и на этот раз де Лясен подчинился. Не зная, как унять непонятную дрожь, он мял в руках записную книжку. Тем временем барон позвонил в колокольчик и попросил подать чаю.
— Как и любой человек в моём возрасте, месье де Лясен, я склонен раскаиваться и сожалеть. Нет-нет, не о многолетней перестройке города, ни в коем случае. Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что те условия и полная поддержка императора заставляли меня быть бессердечным, отстраняться от проблем людей, о которых я должен был позаботиться в первую очередь. Вот за бессердечие я бы хотел попросить прощения.
— У меня? — робко уточнил Патрис, когда повисла пауза.
— У мадам Дюбуа. Ваше имя нашлось в городском реестре, а её нет, так что я не смог связаться с ней…
— Дюбуа? О ком вы?
— Вы разве не помните ту женщину, что держала сиротский приют на старом Ситэ?
Ах, точно! Патиш придумала им этот псевдоним на случай, если бы Патрис слишком примелькался среди людей.
— Наши пути давно разошлись, мой барон. — Глаза старика тревожно блеснули, он весь сжался. Тогда де Лясен осторожно добавил: — Я… лишь изредка её встречаю.
Это заметно ободрило Османа. Из кармана жилета он достал небольшой новенький ключ и протянул Патрису вместе с карточкой, на которой был указан адрес.
— Что это?
— Компенсация за всё то, через что прошли сироты мадам Дюбуа и сотни других людей. Мне бы хотелось отплатить иначе, но я-то всего лишь человек, скопивший кое-какое состояние. А мадам Дюбуа, думаю, знает, как этим распорядиться.
Де Лясен потерянно смотрел на ключ в ладони. Не так-то просто будет передать его «мадам Дюбуа». Да и вряд ли Патиш согласится получить подачку от Османа спустя столько лет… Барон в один момент отвлёк его от скомканных размышлений.
— Вы ни на день не постарели за эти двадцать лет.
Чёрт! Он не мог не заметить. Нужно было срочно уйти. Извиниться, не отвечать ни на какие вопросы, не оглядываться. Но Патриса словно пригвоздило к месту.
— Честно говоря, вы всегда казались мне необычным. А увидев мадам Дюбуа, я уверился в своей правоте. У вас один и тот же взгляд, одна и та же, так сказать, атмосфера присутствия. Вы даже прихрамывали одинаково… — Старый барон добродушно улыбался, словно только что узнал о потерянном в детстве сыне. — Но хромота прошла, вы выглядите здоровым, посвежевшим. Вы стали блондином, месье де Лясен, вам идёт… Вы же как-то связаны с этим городом, правда? Но я не знаю как. Кто вы? Кто такая мадам Дюбуа?
Патрис невольно сжал в руке ключ и наконец-то встал из кресла. «Нет, он не догадался. И не должен знать».
— Простите, мой барон, я должен идти.
Осман не воспротивился, он словно ожидал ровно этой фразы.
— Ну конечно, я понимаю. Простите, но можно я отниму ещё минутку времени у вас? Загляните по пути в префектуру. Там, наверное, накопилось ваше жалованье.
— Я никогда… не работал в префектуре, месье.
— Да, я помню. Я взял на себя смелость учредить для вас особую пожизненную должность.
— М-м, спасибо, я очень вам признателен, барон. Мне правда пора.
Патрис отступил к двери, чувствуя себя одновременно трусом и лицемером. Он старался не встречаться с бароном глазами.
— Если встретите мадам Дюбуа и если она способна простить меня, я буду рад увидеть её.
— Да, я передам.
— Прощайте, мой друг.
«Прощайте» выбило де Лясена из колеи. Он вгляделся в лицо Османа, исчерченное морщинами, само по себе похожее на карту города с застывшими линиями улиц, в уставшие тёмные глаза. Кивнув и поджав губы, Патрис покинул кабинет.
Он не вернулся в редакцию и не пошёл домой.
~
Целый день он слонялся по городу мрачной тенью, и чем сильнее погружался в свои мысли, тем монотоннее и щедрее лепил снег. Вымокнув, он остановился в кафе, опрокинул в себя несколько чашек крепчайшего кофе под напряжённым, хотя и не осуждающим взором официанта.
Ключ по-прежнему тяжелил карман. Он взглянул на измятую, чудом не порвавшуюся за несколько лет бумажку. Наверное, сегодня всё-таки пора.
По адресу он обнаружил дом, такой же, какими был застроен теперь весь Париж. Свет из его окон рассеивал пасмурный сумрак. Поднимаясь по лестнице, он вставлял ключ в каждую дверь, за которой не слышны были голоса, но тот подошёл только к одной замочной скважине на верхнем этаже.
Патрис включил электрический свет. В квартире было как будто холоднее, чем на улице. Она являла собой огромный чистый лист, готовый запечатлеть портрет своего владельца. Здесь можно было устроить частную балетную школу, художественный или музыкальный салон. Здесь могло бы жить целое семейство.
«Но здесь буду жить я», — понял Патрис, когда заглянул в одну из маленьких комнат. Там, накрытое гобеленом, стояло старое зеркало в резной раме. Сдёрнув покрывало и подняв облако пыли, Патрис долго смотрел на своё отражение, которое иногда попадалось ему в витринах, окнах и стеклянных дверях и которое он впервые за долгое время видел целиком, во весь рост, во всех деталях, в полном цвете.
Вздохнув, он позвал:
— Патиш? À toi.
Она появилась — невысокая, ясноглазая, с шапкой пышных светлых волос. Встрепенулась, словно птичка после глубокого сна, зябко повела плечами. «Где мы?» — хотела спросить она, но уже знала ответ на этот вопрос. Знала и о том, что успело случиться, и о том, что ей предстояло сделать.
Переодевшись в женское платье и захватив зонт, она отправилась на кладбище Пер-Лашез, где под семейным склепом Османов сегодня был погребён барон. Церемония давно закончилась, и там, где утром ступали люди, уже лежал ровный, матово-белый снег. Патиш постояла напротив металлической узкой двери, затем обернулась. Над землёй парил призрак Жоржа Османа.
— Позвольте вас проводить, друг мой, — сказала Париж и взяла барона под руку.
Ключ по-прежнему тяжелил карман. Он взглянул на измятую, чудом не порвавшуюся за несколько лет бумажку. Наверное, сегодня всё-таки пора.
По адресу он обнаружил дом, такой же, какими был застроен теперь весь Париж. Свет из его окон рассеивал пасмурный сумрак. Поднимаясь по лестнице, он вставлял ключ в каждую дверь, за которой не слышны были голоса, но тот подошёл только к одной замочной скважине на верхнем этаже.
Патрис включил электрический свет. В квартире было как будто холоднее, чем на улице. Она являла собой огромный чистый лист, готовый запечатлеть портрет своего владельца. Здесь можно было устроить частную балетную школу, художественный или музыкальный салон. Здесь могло бы жить целое семейство.
«Но здесь буду жить я», — понял Патрис, когда заглянул в одну из маленьких комнат. Там, накрытое гобеленом, стояло старое зеркало в резной раме. Сдёрнув покрывало и подняв облако пыли, Патрис долго смотрел на своё отражение, которое иногда попадалось ему в витринах, окнах и стеклянных дверях и которое он впервые за долгое время видел целиком, во весь рост, во всех деталях, в полном цвете.
Вздохнув, он позвал:
— Патиш? À toi.
Она появилась — невысокая, ясноглазая, с шапкой пышных светлых волос. Встрепенулась, словно птичка после глубокого сна, зябко повела плечами. «Где мы?» — хотела спросить она, но уже знала ответ на этот вопрос. Знала и о том, что успело случиться, и о том, что ей предстояло сделать.
Переодевшись в женское платье и захватив зонт, она отправилась на кладбище Пер-Лашез, где под семейным склепом Османов сегодня был погребён барон. Церемония давно закончилась, и там, где утром ступали люди, уже лежал ровный, матово-белый снег. Патиш постояла напротив металлической узкой двери, затем обернулась. Над землёй парил призрак Жоржа Османа.
— Позвольте вас проводить, друг мой, — сказала Париж и взяла барона под руку.
Волшебная формула превращения, сложно переводимая. Вот лишь несколько контекстуальных вариантов: «Твой выход», «Твой черёд», «[Всё] в твоих руках».
Что ещё почитать?
Один из нас
В форме диалога с самим собой Париж рассказывает о неожиданной стороне своей жизни и личности.
Фрагменты
Потеряв память, Париж отправляется к своей подруге — Венеции, которая отчего-то совсем не рада её видеть. По неосторожности усугубив ситуацию, Венеция вынуждена позвать на помощь Нью-Йорк и Лондон. А заодно Петербург, который и стёр Парижу важные воспоминания.
Свидание
Отбросив любые атрибуты светского тона и комплименты, он пригласил её в ресторан, и это было единственное, что он сумел озвучить. Она сама назвала место и время встречи и, одарив его самой счастливой улыбкой, упорхнула.